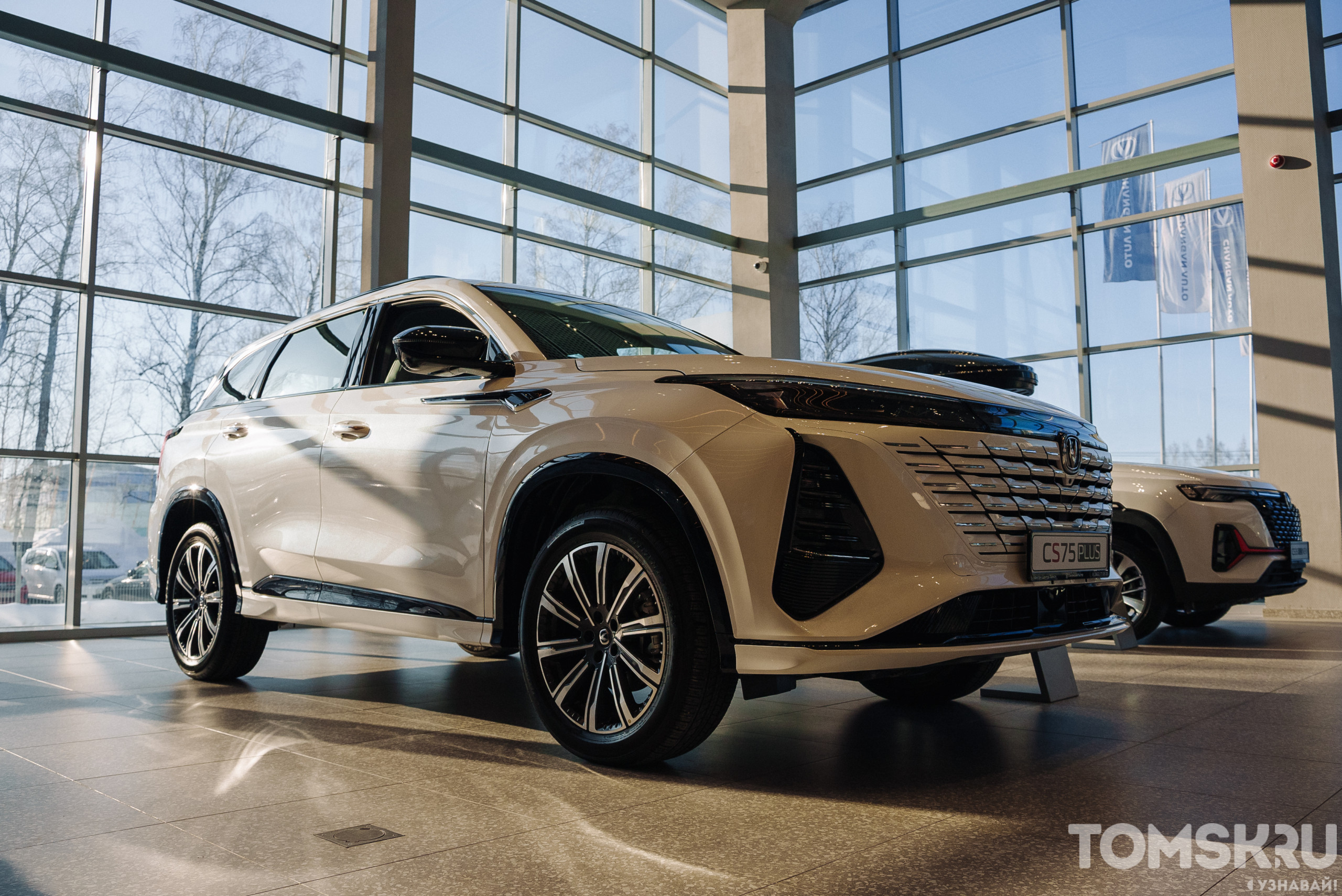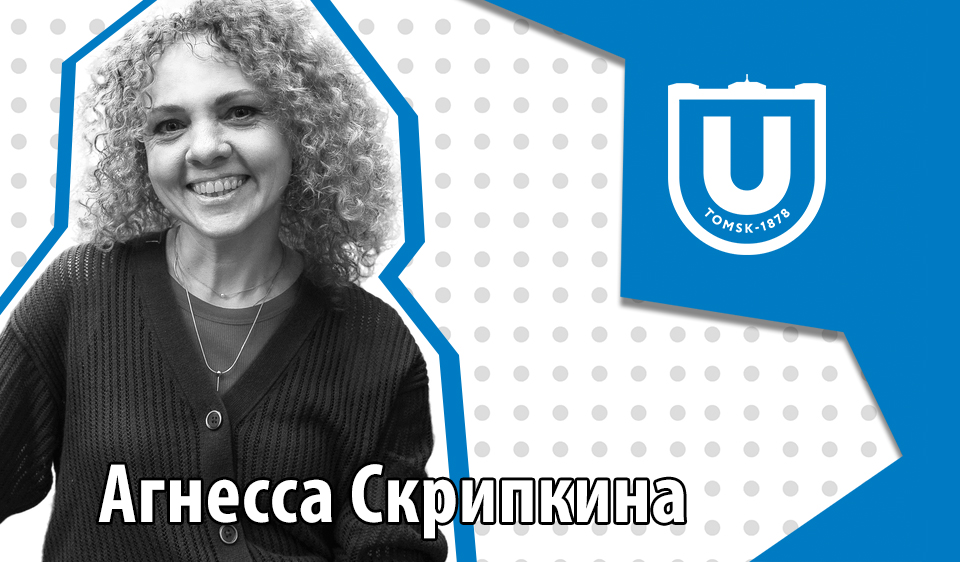Сергей Пароходов — артист, автор поэтического блога «Господин Литвинович», амбассадор современной поэзии, разработчик и преподаватель собственного курса, в недавнем прошлом фотограф, ведущий и выпускник биолого-почвенного факультета ТГУ. Об искренности, театре и вере в себя несмотря ни на что — в новом выпуске совместного проекта Tomsk.ru и ТГУ «Университет без границ».
Я мог поступить только на биологию
Биология — потому что не литература. Моя бабушка работала в сельской школе учительницей по литературе и биологии. Поэтому меня как-то сразу запрограммировали на интерес к этим предметам. На момент поступления мои друзья — в основном, филологи и журналисты — сказали: «Любишь читать — читай. А поступать лучше куда-нибудь в другое место, иначе разлюбишь». Я поверил. Поэтому, методом исключения, поступить мог только на биологию.

Мама в меня не верила и хотела, чтобы я поступал в кулинарный техникум — по ее стопам. А я почему-то верил в себя.
«Верил, что смогу поступить, верил, что когда-нибудь получу Нобелевскую премию, верил, что буду кем-то значимым. Хотя всю школу прогуливал. Обещали, что стану дворником. Не срослось».
Биолого-почвенный тогда был в ТГУ и педагогическом университете, подавал документы в оба и везде прошел. Выбор особо не стоял: мне казалось, что Томский государственный — это самое крутое место. Я рискнул… и пробыл тут целых девять лет.

Учился в то время, когда менялась вся система: внедрялся бакалавриат, магистратура, аспирантура — я прошел полный цикл. Хорошо помню, что было много разных химий, помимо органической и неорганической — каждый семестр какая-то новая: аналитическая, физколлоидная, высших молекулярных соединений. Очень любил лекции по цитологии, потому что там рассказывали совершенно жуткие истории о разных бактериальных инфекциях. Что мне всегда было сложно, так это математика. Когда узнал, что в вузе она тоже будет, чуть не упал в обморок.
«Еще запомнился странный и сложный предмет «Охотоведение». Пересдавал его дважды. Зато узнал слово «окот».
Но в творчество тянуло всегда. Я это понимаю, потому что уже тогда самым любимым предметом была культурология. А самым любимым преподавателем — Ирина Евгеньевна Максимова. Как она рассказывала! Никогда в жизни не посещал лекции интересней. Она была невероятно харизматичная, чувствовалось, что ей было самой интересно этим заниматься, а это всегда очень подкупает.

А можно все посмотреть?
После девяти лет обучения я столкнулся с научным кризисом. «Сегрегацию экологических ниш симпатических видов лацертидных ящериц», конечно, запомнил на всю жизнь, но в тот же момент ловил себя на мысли, что мне больше нравится выглядеть ученым, чем быть им.
На зарплату с северной экспедиции купил фотоаппарат и ушел в фотографию. Творить. Мама с таким решением смирилась, но потом друзья рассказывали, что она всем жаловалась: «Такую научную карьеру похоронил». Много лет фотографировал, подрабатывал охранником, тамадой — в Грузии, работал с Детско-юношеский центром «Звездочка» в качестве художника, рисовал плакаты. А параллельно со всем этим были стихи — на них я подсел в Литературно-художественном театре ТГУ, а потом в какой-то момент понял, что просто не могу этим не заниматься.

«Иногда думаю — как так? Учился на биолога, чего только не делал, а потом такой: почитаю стихи! И вот ты уже не спишь ночами, потому что у тебя вагон работы. Из «Звездочки» ушел, когда были отчетные концерты, требовалось много иллюстраций — а мне надо учить стихи! Они поглотили целиком. Маме сказал, что все бросил и теперь буду читать стихи. Она спросила, платят ли за это? Говорю: не знаю. Но люди хотят, чтобы я читал их стихи, они ими лечатся».
В университете я научился быть честным самим с собой и трезво смотреть на то, что могу, а чего не могу. Искренность — это то, что я сейчас и несу в мир — через стихи.
Театр ТГУ сформировал меня как артиста
Главное, что дал мне вуз, это литературно-художественный театр ТГУ, куда я затек на третьем курсе и вытек, уже давно закончив университет.

«На момент моего поступления проводился такой праздник, когда все коллективы выступали на сцене. Литературно-художественный театр тоже участвовал — что-то пели. Саму песню не запомнил, но запомнил настроение, и что дядька с гитарой был похож на геолога у костра. Мне это засело в голову. А года через три я ехал в маршрутке и увидел его. Это был Вячеслав Родионов, актер драматического театра. Я тогда подумал — наверное, это знак. Пошел на следующий день в Литературно-художественный театр и застрял там на десять лет».
Режиссером театра была Валентина Алексеевна Бекетова, народная артистка. Она оставила неизгладимый след в моей жизни и карьере. То, как она могла объяснять через свой жизненный опыт, это потрясающе, я такого больше нигде не встречал. Эту манеру преподавательскую я перенял у Валентины Алексеевны. Она очень много занималась с нами, и все ее любили. Мне кажется, все, что я сейчас делаю — это или как она учила, или против того. Десять лет я познавал сцену, узнавал тонкости. И хоть я не выучился на актера, но осваивая эту профессию боем, тоже получил мощное образование. Валентина Алексеевна и Литературно-художественный театр ТГУ сформировали меня как артиста сегодняшнего.
В целом, это была колоссальная школа, которая помогает сейчас во всем. Не только в профессии, но и в жизни. Она научила меня мастерски переключаться. Что бы ни происходило, как бы все ни накаляло, но надо работать — и чик, работаем.